Первопроходцам доставалось и от властей, и от соседей
-Недавно мы попытались составить социальный портрет первых фермеров нашей республики. И вот что получилось: за фермерство взялись самые активные сельчане — те, кто хотел работать самостоятельно, кто не смог в полной мере реализовать свой потенциал в колхозах и совхозах. Как правило, это главные специалисты коллективных хозяйств, более 90 процентов из них — с высшим образованием и что очень важно — с новым мышлением. У них хватало и знаний, и опыта, и характера, чтобы рискнуть. Поверьте, решиться было не так-то просто, ведь всех нас десятилетиями учили, что общественная форма труда самая производительная.
Все мы, кто начинал первыми — Ильшат Гумеров, Владимир Аппаков, Расих Мифтяхетдинов, Р.В.Шайхиев, другие, поначалу не представляли себе, со сколькими трудностями нам предстоит столкнуться. Зачастую препятствия создавала районная администрация, ведь во главе большинства районов в те годы стояли бывшие первые секретари райкомов КПСС, а в отделах трудились бывшие инструкторы. Для них «частники» были если не врагами, то, во всяком случае, «чуждым элементом». Даже когда вышел Закон о земле, предоставлять ее фермерам не торопились. Да и односельчане встретили наш выбор, что называется, в штыки. Помню, когда я строил свою пекарню, некоторые жители вышли с вилами, требуя прекратить строительство, но это было в начале реформ. Но и сейчас еще в республике есть три района, где главы администраций и начальники управлений заявляют: «У нас фермеров нет, крестьян нет, у нас есть работники». До них так и не дошло, что каждый из нас прежде всего свободный человек, который сам вправе решать, как, кем и где ему работать. Между тем крестьяне из этих районов просят поддержать их стремление работать самостоятельно, в Ассоциацию от них приходят ходоки.
— А какой была правовая поддержка фермерства в регионе?
— Поначалу робкой. К примеру, было принято 408-е Постановление Кабмина РТ о выделении земли и имущественного пая, но оно носило рекомендательный характер. И, понятное дело, многие районные чиновники воспринимали его как необязательное к исполнению. Приведу пример: рекомендовалось земли, как правило, выделять единым массивом. Но ведь правила предполагают исключения, вот и принялись на местах кроить земельные наделы заплатками, да еще к тому же на дальних полях, на границах поселений или районов. К чести наших фермеров, они все это выдержали, в том числе и благодаря поддержке федерального бюджета. С легкой руки тогдашнего российского Премьер-министра Ивана Силаева на поддержку фермерских хозяйств выделили первый млрд. рублей. На эти деньги регионы закупили сельхозтехнику, которую передали в долгосрочную аренду фермерам, выделив им кредиты. Это не только помогло окрепнуть первым фермерским хозяйствам, но и окрылило их владельцев. Эйфория продолжалась до 1995-го года.
— А что произошло в 1995-м году?
— Вышел Гражданский кодекс, который фактически поставил фермерские хозяйства вне закона. А ведь к тому времени в нашей республике было уже около 800 фермеров и они обрабатывали почти 27 тысяч га земли. Но чиновники стали на нас наседать: «Раз нет такой формы, надо перерегистрироваться в ООО». И хотя такой переход снимал с фермеров часть ответственности, поскольку ООО в случае неудачи отвечает лишь уставным капиталом (тогда это было меньше 10 тысяч рублей), а фермер — всем имуществом, большинство из нас не согласились перерегистрироваться в ООО. Для нас с понятием «фермер» был связан дух самообновления, которым мы были проникнуты, новая идеология. В итоге государство пересмотрело законы, регламентирующие его отношения с фермерскими хозяйствами. Закон был изменен, и мы остались фермерами. Но это была скорее моральная победа, поскольку несмотря на то, что были приняты законы о земле, о крестьянских и фермерских хозяйствах, с 1995 до 1999 года государство нами особо не интересовалось. Земля по-прежнему находилась в пожизненной аренде, ее нельзя было продать или заложить.
Фермеры и агрохолдинги — антогонисты?
— В чем вы видите причину такого отношения?
— Мне кажется, дело в том, что ставка была сделана на крупные агрохолдинги, в это время началось сращивание государственного монополизма с олигархическим, в том числе и на селе. Государство начало принимать законы в интересах крупных хозяйств. Но фермеры не сдавались: приходили новые люди с новыми идеями. Качество их работы было таким, что на селе коренным образом изменилось отношение к фермерству. Так, в 2002 году 86 процентов земли, на которой работали фермеры, было арендовано у населения. Заметьте, крестьяне предпочли сдать ее в аренду не холдингам, а своим землякам-частникам — им доверия больше, да и платили они за земельные паи достойно.
— По закону о развитии сельского хозяйства, принятом в 2006 году, крестьянские и фермерские хозяйства являются сельхозтоваропроизводителями, на которых распространяются все формы господдержки. После этого появилась возможность получать кредиты?
— Для этого был создан Россельхозбанк, но об эффективности его работы можно судить по тому, что в 2010 году из 4650 фермерских хозяйств Татарстана кредиты получили 148. Правда, в нашем регионе кое-что меняется благодаря усилиям нашей Ассоциации и пониманию отдельных чиновников Минсельхоза. На самом деле вложения в фермерство для государства выгодны. В 2009 году лишь 2,3 процента бюджетных средств, выделяемых на сельское хозяйство, попало к фермерам. Тем не менее именно фермерские и крестьянские хозяйства производят около 50 процентов валовой сельхозпродукции. Мы подсчитали, что каждый рубль, вложенный в фермерские хозяйства, дает продукции на 18 рублей, а в крестьянские хозяйства — на 100 рублей. Разве не правильнее вкладывать туда, где наибольшая отдача?
— Проблема перекупщиков по-прежнему актуальна?
— Безусловно, ведь хлеб, который выращивают фермеры, они хранят в хранилищах агрохолдингов и несут при этом большие потери. Вместо этого нужна кооперация внутри фермерского сообщества — в частности, обслуживающие, перерабатывающие кооперативы. Какие огромные средства государство в засуху вбухало в агрохолдинги! К примеру, агрохолдинги Татарстана получили более 100 млрд. рублей кредита. Если бы эти деньги попали к фермерам… но не будем гадать на кофейной гуще. Ведь даже без поддержки государства в фермерских и крестьянских хозяйствах производят треть продукции животноводства. Мы предлагаем государству использовать экономические рычаги — в частности, иначе распорядиться бюджетными средствами. Не распылять их по десяткам позиций, а выделять на один га пашни и на одну условную голову.
Нужно расширять сеть перерабатывающих, обслуживающих, снабженченско-сбытовых кооперативов, чему помогают система лизинг-грантов, а также принятая Минсельхозом программа, по которой фермеры на организацию кооперативов могут получить помощь в размере половины стоимости оборудования. Некоторые перерабатывающие кооперативы уже сейчас хорошо известны потребителям. «Ватан» в Пестречинском районе (председатель З. Гимранов) оказывает услуги по сбору, переработке и реализации продукции более чем 15 селам, снабжает молочными изделиями весь район, включая бюджетные организации, КФХ Р. Нуретдинова из Муслюмовского района через электронные торги обеспечивает молочной продукцией сразу несколько районов, причем по низким ценам. На слуху и СПК «Карат» Новошешминского района (председатель Ф. Валиуллин). Чтобы продукция фермерских и крестьянских хозяйств доходила до потребителей без посредников, по нашему предложению и при поддержке Президента РТ, Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ в 2011 году начинается строительство оптово- розничного кооперативного рынка в Казани, где производители смогут торговать сами, а кооператив будет оказывать все услуги, которые необходимы крестьянам.
Будущее села — за фермерами
— Во время кризиса резко возросло количество фермерских хозяйств — с 4,6 тысячи до 28 тысяч…
— Почти 24 тысячи хозяйств прибавилось благодаря государственной антикризисной программе самозанятости. Теперь надо сделать второй шаг: поддержать вновь образованные хозяйства, предоставив им землю в долгосрочную аренду. Без этого мы можем потерять половину из них в течение года.
— Как пережили наши фермеры кризис и аномальное лето прошлого года?
— Кризис не так сильно ударил по фермерам, так как кредитов на них практически не висело, так что фермеры пострадали скорее косвенно. А вот засуха принесла очень большие убытки. Мы потеряли две трети валовой продукции. Но все-таки у фермеров не возникло таких больших проблем, как у агрохолдингов. Банкротств не было, и, несмотря на природные катаклизмы, фермеры чувствуют себя уверенно и являются участниками многих программ.
— Дети фермеров следуют отцовскому примеру?
— Случается всякое: есть примеры, когда уже и внуки трудятся рядом с дедами. Но нередко дети уезжают в город. Причем не потому, что боятся тяжелого труда. Просто наглядятся, как старшие бьются, увязая в неразрешенных проблемах, и делают вывод о том, что государство не слишком-то ценит фермерский труд и не может принять комплексное решение.
Но крестьяне — люди упрямые и отходчивые. Мы выходим все с новыми предложениями. К примеру, наша Ассоциация готова взять на себя ряд государственных функций на основе государственного частного партнерства: вести реестр фермерских хозяйств, составить банк данных, наладить информационно-консультативную службу, начиная от региона до муниципальных районов и поселений.
Подводя итоги нашей двадцатилетней истории, мы не сомневаемся: будущее села — за фермерством и другими сельхозтоваропроизводителями. Мы за конкуренцию при условии равного отношения ко всем.
По материалам газеты «Время и Деньги»





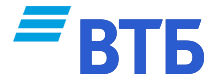















Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: