Свое 70-летие Виль Мустафин отметил творческим вечером. Первый за все годы литературной деятельности, он состоялся в Литературно-мемориальном музее им. А.М.Горького 19 мая этого года. «Я предпочитаю устраивать не творческие вечера, а презентации своих новых книг, — говорит Виль Мустафин, — собираю тех, кому нужны мои стихи, раздариваю новые книги, что-нибудь читаю. В таких случаях я знаю, зачем люди пришли, знаю, что сделал им подарок. Такие вечера мне нравятся».
Виль Салахович Мустафин родился 3 мая 1935 года в Казани в семье видного татарского языковеда и журналиста Салаха Атнагулова. В 1936—1937 гг. родители были репрессированы. Воспитывался тетей по матери Хадичей Мустафиной. В 1953 году окончил казанскую школу № 19 имени Белинского. В 1958 году окончил физико-математический факультет КГУ. По образованию — математик. Работал по специальности в различных казанских вузах и НИИ. Стихами увлекся в начале 60-х. Посещал литературное объединение при Союзе писателей. Публиковаться начал в начале «перестроечного» периода — в конце 80-х. Автор сборников «Живу впервые», «Дневные сны и бдения ночные», «Беседы на погосте», «Стихи о стихах», «Сонетные вариации». Член Союза российских писателей.
Виль Салахович, ваши первые стихи родились в конце 50-х годов. Вы к этому времени окончили физико-математический факультет Казанского университета. Неужели в школьные и студенческие годы стихов не писали?
В школе? Нет, не помню… А вот в университете писал. Но они были любительские, «для семьи, для дома». Я был абсолютно уверен, что это не стихи и никаких особенных позывов у меня к поэзии не было. А на настоящие стихи меня подвигла хрущевская оттепель. В то время появились произведения поэтов, творчество которых мы не знали. Самиздат пошел очень мощным напором. Люди, которые боялись афишировать, что у них есть еще прижизненные издания этих поэтов, стали нам их показывать. Так в мои руки попали произведения поэтов серебряного века — Цветаевой, Гумилева… Первое свое стихотворение я написал, учась уже в консерватории. Тогда в коридоре в ожидании экзамена родилось стихотворение, и я знал, что оно — настоящее.
А что значит настоящая поэзия?
Знаете, стихи пишут, наверное, 90% населения, особенно в молодом возрасте. Но это стихи, не относящиеся к поэзии как таковой.
Графоманство?
Да нет, так не назовешь. Есть внутреннее ощущение, связанное с идеалом. У каждого поэта есть свой идеал поэзии, к которому он и стремится в своем самовыражении. А что такое этот идеал — не объяснить ни на пальцах, ни на словах. Все критерии идеала сугубо личные, их в абсолюте просто быть не может. В той среде, где стихи пишутся, есть еще определенное внутреннее «чутье» на истинную поэзию. Ведь чужие стихи к твоему собственному идеалу могут и не относиться. Эти люди как-то разгадывают, что есть истинная поэзия. Они слышат ее, видят хорошего поэта. А вот почему сами зачастую к этому не стремятся — загадка для меня. Бывает так — есть и техника нормальная, и лексикон достаточный для того, чтобы писать, а настоящих стихов нет… Рустем Кутуй говорит, что таким поэтам не хватает личной судьбы, имея в виду историю переживаний души. Есть глубинные переживания, а есть переживания бытовые, «земные» так сказать. Те переживания, которые существуют вне поверхностной жизни человека, как раз и составляют основную часть жизни поэта. Поэты пытаются высказать судьбу души своей. А она невысказываема в принципе. Все творцы — поэты, композиторы, художники — хотят на своем языке высказать невысказываемое, потому до сих пор и существуют различные виды искусства. Поэту не нужны аплодисменты, не нужны издания. Со своим идеалом поэзии и со своей состоявшейся судьбой поэт, в принципе, самодостаточен.
И публикации не нужны? Разве для поэта не важно издавать свои произведения?
Стихи как дети, как птенцы — родились и разлетелись по разным гнездам. Они существуют самостоятельно, и я доволен, когда им хорошо. Вот недавно моим стихам оказалось хорошо в газете «Республика Татарстан». Ольга Дмитриевна Стрельникова подготовила очень удачную публикацию. Кроме радости за стихи для меня важно, что есть люди, которым мои книжки нужны. Уверен, что в тот момент, когда поэта нечто вынуждает приблизить перо к еще чистому листу бумаги для написания какого-то стиха, требующего своего обнаружения, осуществления в миру, в том же миру уже существует некий потенциальный читатель, который испытывает необходимость во встрече именно с этим, еще не написанным, но уже готовым к воплощению стихотворением.
Вы подготовили к изданию две новые книги стихов. Расскажите о них.
Один из новых сборников называется «Книга начал», он состоит из трех глав. В первую главу «Начало начал» вошли мои ранние не публиковавшиеся стихи. Вторая глава — самая крупная — «Начало века» включает новые стихи. Третья глава «Начало конца» — это мои стихи о смерти, которые я собрал в один цикл.
Вторая книга пишется всю жизнь, и очень трудно мне давалась внутренне. Это мои посвящения. Есть посвящения Николаю Языкову, Борису Чичибабину, другим близким мне по духу поэтам, есть посвящения друзьям-учителям, с которыми у нас 30-летняя разница в возрасте, — Александру Петровичу Нордену, Борису Михайловичу Козыреву, Борису Лукичу Лаптеву. Есть, конечно же, посвящения близким для меня людям, с которыми связана вся моя жизнь. Все посвящения я собрал в одну книгу и дал небольшое предисловие к каждому стихотворению с попыткой «разъяснения», откуда оно появилось.
Подробнее поделиться воспоминаниями о своих друзьях, так, например, как вы рассказали в журнале «Казань» о художниках Константине Васильеве, Алексее Аникеенке, не планируете?
Журнал «Казань» большие подборки посвящает своим любимым казанцам, и мне порой приходится в них участвовать. Своими воспоминаниями о том или ином человеке делишься без оглядок на то, что говорят другие. Ведь это был твой личный друг, это — глубокий интим, это — любовь. Пишется такое крайне тяжело. В сентябре должна выйти книга о Борисе Михайловиче Козыреве, которую подготовила к изданию его дочь. Свои воспоминания для этой книги я писал полгода, в итоге получилось всего 4 или 5 страниц. И это двенадцатый вариант, который я посмел отдать. А бывает, как с воспоминаниями об Александре Петровиче Нордене, которые я так и не смог отдать для опубликования. Скоро 60-летие отметит мой друг, художник Надир Альмеев. Думаю, он должен закончить к этой дате цикл, который пишет по 100 песням «Божественной комедии» Данте. Это удивительные произведения на уровне мировой графики, выполненные в новой технике, которую Надир придумал именно для своего «Дантевского» цикла. На сегодня у него готово около 80 работ. Вот закончит, и я должен написать о нем статью.
С годами, с накопленным поэтическим и жизненным опытом писать легче? Знакомо вам понятие «творческие муки»?
Легче не пишется. У меня процедура написания происходит таким образом: вдруг наскакивает на тебя стих, лезет, как кошка, трется об ногу, а ты от него любыми способами отмахиваешься. Я математикой всегда начинал заниматься, углублялся в работу. Но стих лезет и лезет, и вдруг — победил. Это значит, он тебя увел в те миры, из которых иногда нет выхода. Йоги говорят, что самая трудная и высшая ступень — не просто достичь нирваны, а суметь из нее возвратиться. И из этого состояния ты стараешься быстро вернуться, потому что надолго оставаться в нем нельзя, ты знаешь, что конца нет, там — целый мир, нырнешь — и не выплывешь… Я 10 лет увлекался подводным плаванием, нырял без акваланга, просто в маске с трубкой. Иногда забудешься, там же красота неописуемая, а самое главное — там нет звука, такая абсолютная тишина захватывает, как музыка. И чувствуешь в какой-то момент, что у тебя нет кислорода, посмотришь наверх, а солнце далеко-далеко, на поверхности отражается, и кажется, что расстояние в несколько десятков километров, и точно не доплывешь… И в поэзии так же. Пытаешься быстрей вынырнуть. Но главное начинается потом. Вот ты протрезвел, возвратился на землю, уже лежит листочек исписанный, и ты смотришь, что вышло. Знакомишься с ним, замечаешь огрехи: тут неточно выразился, тут повторился, тут грамматическая ошибка. И начинается работа. Ведь ты не просто родил стих, ты хочешь выпустить его в жизнь, показать людям, которые его ждут. Он будет существовать без тебя. И ты стихотворение делаешь самостоятельным. Ты уже в сознании, не пускаешь себя в иные миры, а только вспоминаешь. Вот этот труд, эту «работу над стихом» я считаю самым ценным в творчестве.
Виль Салахович, что для вас является поэтическим импульсом?
… Наверное, восторг… Восторг от какого-то события… Восторг от прочтения какого-то стихотворения, от настоящей поэзии. Сам по себе восторг очень глубок и иногда ответная реакция на него родится через 5 минут, а иногда через годы. Восторг воспринимается как результат чуда, свидетелем которого ты был. Это состояние запоминается на всю жизнь и является для меня наибольшим творческим стимулом. А бывают стихи на случай. Вот так я написал стихи к 70-летию композитора Алмаза Монасыпова. Внучке и жене написал на случай сонеты. Когда пишу на случай, мне нравится себя устрожить формой, чтобы халтуры не было. Такая строгая поэтическая форма, как сонет, очень дисциплинирует.
«Беседы на погосте» с Мариной Цветаевой, несомненно, родились в результате восторга…
И только! Тут уж точно совершенно. Восторг от первой встречи с ее стихами потряс меня! Я просто не мог сдержать себя. В предисловии к книге я пишу, что в Елабуге провел ночь на том погосте, где похоронена Марина Цветаева. Тогда я читал ей ее же стихи. А в это время, видимо, созревали и мои ответы на вопросы, которые она в своих стихах задает. Этот цикл рождался годами. Сначала я брал какую-то цитату из ее стихотворения как эпиграф и сочинял свои экспромты. Позже эпиграфы стали расширяться в целые стихотворения… Так родилась и форма книги — в виде беседы: одно стихотворение — Марины Ивановны, другое — мое.
Неопубликованные стихи из этого цикла у вас есть?
Нет, пока нет. Они рождались медленно. Все вошли в сборник, который выдержал два издания. Второе издание дополнено стихотворным прологом и еще тремя стихотворениями.
Ваши «беседы» с Мариной Цветаевой продолжаются?
Я постоянно с ней беседую, почти ежедневно. Романсы на ее стихи звучали на моем поэтическом вечере. Я пригласил артистку театра Елены Камбуровой Эльмиру Галееву. Она пишет музыку на стихи поэтов «серебряного века». На вечере она исполнила два романса на стихи Марины Цветаевой и один романс на мои стихи. А сейчас я пишу венок сонетов, магистралом для которого взял один из сонетов Марины Цветаевой. Как обычно венок сонетов создается? Пишется сонет, который выбирается основой венка — «магистралом». Затем по этой основе «плетется» и весь венок из пятнадцати сонетов: каждая «веточка» этого венка начинается одной из строк магистрала, а заканчивается его следующей строкой. Потому венок и состоит в итоге из пятнадцати сонетов: 14 «рядовых» сонетов и 15-й — магистрал. Что же касается моего «Венка Марине», то здесь магистралом служит сонет, написанный самой Мариной Цветаевой, который я «оплетаю» уже своими четырнадцатью сонетами. Этот венок зрел во мне давно, еще с той поры, как я жил месяц в подмосковном Голицыне, где Марина Ивановна проводила последнее лето до приезда в Елабугу. Гуляя по Голицыну и его окрестностям, я будто встречал ее не раз и озадачился вопросом: по какой такой надобе она вновь и вновь «появляется» в этих местах? Об этом и венок: я и ее спрашиваю, и сам пытаюсь ответить на этот вопрос. Не знаю, чем венок закончится, пока я дошел только до середины — до седьмого сонета.
В интервью Андрею Морозову вы рассказывали, что завели свою антологию поэзии, взяв от каждого любимого поэта по одному «лучшему» стихотворению.
Да, такая антология у меня существует, она составляется давно. А знаете, с чего началась? Со стихотворения Александра Кочеткова «Баллада о прокуренном вагоне», которое я услышал в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». Оно даже на слух меня настолько потрясло, что я начал искать этот текст. Нашел «Балладу» в какой-то из антологий, переписал. И тогда подумал: мне не обязательно знать, что Кочетков еще написал, как другие к нему относятся, пусть он написал одно единственное стихотворение, но для меня он — поэт настоящий. Я к своей антологии в качестве эпиграфа и взял фразу: «Поэт как характеристика качественная никоим образом не зависит от количества написанного». Отыскать одно, лучшее на твой взгляд стихотворение у одного конкретного поэта — сама по себе задача очень трудоемкая, — надо перепахать все тома полного собрания сочинений! Антологию я составляю не напоказ, тут я один на один сам с собой, — и себя проверяю «на вкус», а заодно и творчество поэта изучаю поглубже, нежели просто читаю.
А какое произведение Марины Цветаевой выбрали для антологии?
Стихотворение «Сад». Оно у меня записано вторым, сразу после «Баллады о прокуренном вагоне».
Собственное стихотворение вы можете включить в антологию?
Моего стихотворения в «Моей антологии» нет. Но на сегодняшний день в ней могло бы оказаться стихотворение «Модильяни». Оно подкупает меня своей певучестью. Я ведь от звуков шел, когда писал его. И от знаменитых модильяновских портретов женщин с удлиненными шеями. Помните, с кем он общался? Это были простые девчонки с улицы. Он приводил их к себе на квартиру, начинал их писать, а получались мадонны. Несмотря на то, что провалы в глазницах, несмотря на то, что зрачков не выписывал. Вот это чудо меня потрясло: звукосочетание «Амедео Модильяни» и его «мадонны», стоящие перед моими глазами, — так стихотворение сложилось. Посвятил я его любимому своему учителю Борису Лукичу Лаптеву, его душевной тонкости.
Расскажите о ваших отношениях с профессором Лаптевым.
Он был моим деканом в Университете. И будучи студентом, я начал встречать Лаптева на концертах. Он не пропускал, как мне казалось, ни одного концерта в Казани. Даже если это был обычный семестровый зачет какого-нибудь консерваторского класса. А потом мы близко с ним познакомились. У Бориса Лукича была изумительная фонотека классической музыки, наверное, лучшая в те времена в Казани, был шикарный набор альбомов по живописи. Мы с ним сошлись как раз в период «хрущевской оттепели». У меня друзья художники начали появляться, а он, возглавляя Научно-исследовательский институт математики и механики им. Н.Г. Чеботарева, имел возможность для организации выставок. Но нас сблизило внутреннее родство вкусов. Это было удивительно, поскольку мы очень разные: у нас и школы разные, и статус, да и старше меня он был на целых 30 лет. Он — строгий, холодный во внешнем поведении, а я — вертопрах, но внутри вдруг такое совпадение!
Любовь Владимировна Агеева приводила такое высказывание профессора Лаптева: «Мне концерты нужны как математику. Когда прихожу с концерта, знаете, как у меня мозги работают!». Вам тоже искусство помогало в математике?
Мне знакомы эти ощущения. Часто не знаешь, как решить ту или иную научную задачу. Голова сама работает, но для того, чтобы дать ей свободу, нужно подключить подсознание. В математике это сделать очень трудно, потому что эта наука основана на логике,
Расскажите о ваших литературных пристрастиях. Кто из литераторов-современников и классиков вам наиболее интересен?
В литературе, говоря о предпочтениях, я не содержание имею в виду, а стиль. Для меня высший класс — это «Мертвые души» Гоголя. Очень долго я «болел» Достоевским. Булгаков входит в число любимых писателей, он удивил меня не столько сюжетами, сколько своим языком и образом мышления. Но когда появился Платонов, я понял, что среди современников это единственный достойный последователь Гоголя. Перечитывал несколько раз его «Котлован», «Ювенильное море», «Чевенгур». Вот на нем, наверное, мои пристрастия в прозе заканчиваются. В поэзии в свое время меня потрясла Марина Цветаева. И она «потащила» в меня своих друзей: я прочитал Ахматову, потому что ее стихи очень нравились Марине Ивановне, прочел Брюсова, потому что именно его перу принадлежит первая рецензия на стихи юной Цветаевой. Люблю стихи Тютчева. Он — поэт-мыслитель, его кредо — «скрывайся и таи», а Цветаева поражает своей открытостью: нельзя ничего таить, стих тебя показывает, а не ты его. В свое время я никак не мог «подобраться» к поэзии Бродского, пока не попала в руки книга «Крик ястреба». Это сборник стихов Бродского издал его друг и включил в него свои сам любимые стихи. Эта любовь передалась и мне. Не обошлось тут, по-видимому, и без Анны Андреевны, ее реакции на творчество Иосифа Бродского… Из современников мне близок Иван Жданов — лауреат премии Андрея Белого, лауреат литературной премии Аполлона Григорьева Академии русской современной словесности. Его поэзия притягивает своей глубиной. Однажды Иван сказал мне, что хочет набрать сотню самых любимых своих стихотворений. Пока, говорит, набралось только 60. А у Бродского была фраза: если у стихотворца можно выбрать в качестве «настоящих» 12−20 стихов, то его уже можно зачислить в клан поэтов. А у Жданова — вот такая высокая планка!
Среди казанских поэтов есть близкие вам по духу?
Среди казанских поэтов более других мне импонируют двое: Сергей Кудряшов и Валентин Ярюхин. Они и по возрасту разные, и по основной «заработной» профессии, да и стихи у них совсем разные. Но оба очень серьезно относятся к стихотворчеству — глубоки в восприятии стиха, обладают отличным поэтическим слухом и чутьем, мозги хорошо работают, начитанны литературно и грамотны языково. В общем — хорошие ребята и славные поэты. Один фотографией зарабатывает на жизнь, другой — театральной режиссурой.
И здесь я никак не могу не назвать еще одно имя: Рустем Кутуй. Это мой друг. Друг с детства. Этим вроде бы и сказано все… Но мы занимаемся с ним одним делом: пишем стихи. А стихи у него изумительны! Аналоги его поэтического письма можно найти лишь в том редком и малочисленном представительстве авторов тюркского (по языку) происхождения, пишущих на русском языке. Язык Рустема Кутуя переполнен этим самым кровно-языковым корнем, что читать его произведения доставляет истинное наслаждение. Но этому мешает присущее большинству читателей слабое наличие не столько поэтического, сколь этимологически-семантического слуха.
Сейчас очень остро стоит проблема интеллектуального права. Многие литераторы выступают за соблюдение авторских прав. Вот недавно в программе «Культурная революция» деятели искусства вели полемику…
Если литератор борется за свое авторское право, то там, я предполагаю, никакой литературы нет. Нет там настоящего высокого искусства, а есть что-то «на продажу». Я считаю, нет никакого такого «абстрактного права» у автора на свои уже созданные им и выпущенные в свет произведения, потому как Господь дал ему возможность сотворить, а вот само творение — это принадлежность мира. Автор же только передатчик, ретранслятор. Подчеркну, что это — мое, сугубо личное мнение, навязывать которое кому бы то ни было я не имею ни малейшего намерения. Я все свои книги до единой раздариваю, ни одной не продал. Потому как книги эти мне не принадлежат. Мне лично продавать стыдно, неудобно навязывать свою прихоть. А поэзия — это моя вынужденная прихоть. Я понимаю, что есть люди, которые кормятся этим, поскольку ничего другого не умеют. Я-то на жизнь всегда математикой зарабатывал. Вот хорошо было литераторам в XIX веке — у них были поместья, которые их кормили, — соответственно и вопрос так остро не стоял, как он сейчас поставлен. Но убежден, что если свяжется искусство с деньгами, — конец и искусству, и автору. Тут должно быть наложено своего рода добровольное вето, нравственное вето.
Amedeo Modigliani
Борису Лукичу Лаптеву
Модильяни…
Амедео Модильяни… —
Это женщина молилась на поляне,
это пела полонянка одеяний о свободе:
Модильяни…
Модильяни…
Это груди, — обнажаясь, — укрывали
потаенный плач неузнанных
мелодий… Истомленные колени
тосковали, — словно сломанные
крылья, — о полете…
В этих линиях дышало эхо лилий,
эти плечи проливали стоны ливней…
И молитва, — колыхая тополями, —
голубела:
Модильяни…
Модильяни…
А-а-амедео…





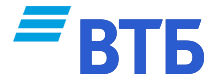













Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: